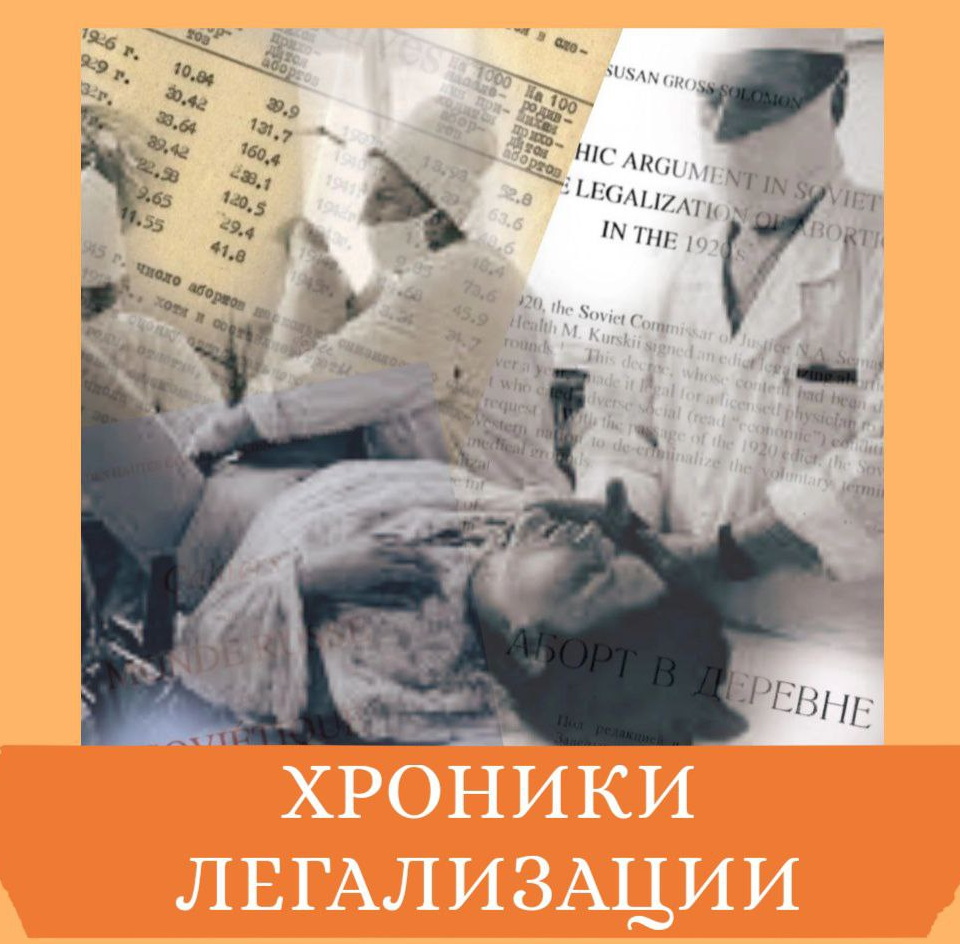Хроники легализации.
Сьюзан Гросс Соломон, Демографический аргумент в советских дебатах о легализации аборта в 1920-х годах
Cahiers du monde russe et soviétique, Тетради Русского мира — трехъязычный журнал (французский, русский и английский), посвященный истории Русского мира. В издании освещалась политическая , социальная, экономическая и культурная история Российской империи от ее зарождения до 1917 года.
1️⃣ Подписание советского указа ноября 1920 года, легализующего аборт как по социальным, так и по медицинским причинам, вызвало интенсивную критику внутри русского медицинского сообщества. До начала 1930-х годов врачи атаковали новую политику в первую очередь на том основании, что аборт, легальный или нелегальный, имел вредные последствия для женского организма.
Принятие указа 1920 г. добавило новый импульс медицинской критике легализации со стороны акушеров гинекологов и специалистов по защите материнства и детства.
Акушеры гинекологи были плохо подготовлены к оценке социальных показаний к аборту, которые они были обязаны определять в соответствии с указом. Врачи, критиковавшие новую политику, открыто говорили о напряженности между требованиями медицинской науки и требованиями социальной оценки, которые были запущены принятием указа 1920 года. Для большинства врачей решение этой напряженности заключалось в ограничении своих притязаний на авторитет медицинскими аспектами аборта.
Самые ранние статьи и выступления (1922-1924 гг.) о медицинских последствиях легализации, как правило, были либо отчётами об изолированных случаях осложнений после искусственного аборта, либо впечатляющими рассказами о воздействии новой политики на здоровье женщин.
Но вскоре врачи начали проводить статистические исследования медицинских последствий аборта. В июне 1924 года на VI заседании Всесоюзного общества акушеров и гинекологов доктор М. Карлин из Государственного клинического акушерско-гинекологического института в Ленинграде представил отчет об исследовании 1 362 женщин, проведенном в течение первых шести месяцев 1923 года. Хотя Карлин заявил, что выполнение аборта врачом снижает риск для здоровья женщин, его данные показали, что заболеваемость, возникающая в результате абортов, была значительно выше, чем та, что возникала в результате родов. Эти же результаты позволили ему сделать предположение, что фертильность женщин, у которых были только аборты, была ниже, чем фертильность женщин, которые к абортам не прибегали.
Женщины, которые перенесли только аборты, в среднем имели 1,87 зачатий, тогда как женщины, которые перенесли только роды, в среднем имели 2,12 зачатий.
Эти данные о дифференциальной фертильности напрямую касались проблемы снижения населения, но Карлин обсуждал снижение фертильности только с точки зрения последствий для отдельной женщины. Несколько иное толкование этих данных было предложено доктором Бубличенко, который курировал исследование Карлина. Бубличенко заключил, что искусственный аборт является социальным злом «не только в смысле снижения рождаемости, но и в смысле вреда женщинам».
Безусловно, обработка статистики и Карлином, и Бубличенко была ошибочной, но для этой статьи сами статистические данные менее значительны, чем их полемическое использование.
В период 1925-1927 годов советские врачи начали обсуждать аборт с возрастающей частотой, предпринимая попытки противодействия новой политики легализации, обосновывая ее медицинскими аргументами.
Согласно одному отчёту, уже в конце 1924 года некоторые врачи отказались проводить аборты. В 1926 году врачи пошли дальше, призвав к пересмотру политики легализации. Говоря от имени критиков, доктор Ульяновский объяснил, что не «буржуазная мораль, а наука побудила [врачей] к противодействию». «Конечно, государственный указ был сильнее авторитета науки.
Но в глубине своих душ врачи, для которых интересы науки и ее авторитет были дороги, вероятно, даже сейчас противостоят указу со всеми его последствиями.» – так объяснил он требования о пересмотре условий для выполнения медицинского аборта.
В отчёте о ежегодном собрании Ленинградского акушерско-гинекологического общества, проведенном 31 января 1925 года, упоминалось о буре протестов со стороны врачей против предложения о том, чтобы региональные комиссии по абортам (тройки) решали, следует ли проводить аборты по медицинским показаниям. Врачи настаивали на своем праве решать медицинские случаи, так же настойчиво, как они пытались дистанцироваться от решения социальных случаев.
Но даже до 1927 года уже были врачи, особенно среди специалистов по защите материнства и детства, которые связывали легализацию аборта с вопросами рождаемости. Например, на заседании Ленинградского отделения Отдела по защите материнства и детства в мае 1926 года доктор Шустер-Кадыш утверждал, что количество абортов может повлиять на рождаемость.
В 1927 г. в Киеве открылся I Всеукраинский съезд акушеров и гинекологов. Вопрос аборта был на нём вторым «программным вопросом»: по этой теме было представлено 35 докладов. Значимость различия между легальными и нелегальными абортами была оспорена, так как врачи утверждали, что аборт, независимо от того, выполняется ли он лицензированным врачом или подпольным абортмахером, вреден для женского организма. Ряд врачей-депутатов провел связи между абсолютным ростом числа абортов и рождаемостью.
⬛️Например, доктор Е.Ф. Шинкарь из Харькова предоставил данные, показывающие, как за трехлетний период, в то время как процент абортов, проводимых «на стороне», упал с 66,5% до 49%, абсолютное число абортов возросло почти на 300%. Он также показал, что соотношение абортов к родам возросло как в городах, так и в сельской местности.
⬛️Доктор Лаптев в своем выступлении утверждал, что хвалёное сокращение абортов, проводимых вне медицинских учреждений, было лишь относительным, поскольку абсолютное число абортов драматически возросло.
⬛️Согласно докладу доктора Тиханадзе из Тбилиси, к 1924 году аборты составляли 50% от родов в Ленинграде, а в большом родильном доме Грауермана в Москве эта цифра составляла 43%. Ситуация в сельской местности была не намного лучше. Доктор Левит из Ленинграда официально заявил, что декрет 1920 года не оказал влияния на количество абортов, доктор Тиханадзе же настаивал на том, что легализация увеличила количество абортов.
⬛️Доктор Лаптев сделал шаг дальше и подсчитал, что рост числа абортов означал падение рождаемости с 18,8 ‰ в 1924 году до 15,45 ‰ в 1926 году, несмотря на радикальный рост числа родов на 1,000.
Безусловно, статистика была ненадежной, запутанной и часто противоречивой, но градус мнений в Киеве по демографическим последствиям легализации аборта был определён.
Врачи, которые приехали в Киев весной 1927 года, осуждали не только демографические последствия легализации аборта, но и его моральные последствия, которые один делегат резюмировал как «сексуальный хаос». Киевскую конференцию можно смело назвать согласованным протестом врачей против социальных последствий легализации аборта.
В 1926 году, а затем снова в 1927 году, по инициативе М. Гернета, главы секции моральной статистики Центрального статистического управления, который сотрудничал с врачами из Отдела защиты матерей и детей Народного комиссариата здравоохранения, были проведены два крупных исследования аборта.
Данные для этих исследований поступили из карточек, которые женщины, запрашивающие бесплатные аборты у тройки, были обязаны заполнять с 1924 года. Крупные исследования показали, что типичной пациенткой, проходящей аборт, была не крайне бедная женщина, а относительно обеспеченная, замужняя или в стабильном союзе, уже имеющая одного или несколько детей. Эта находка прямо противоречила обоснованию принятия указа 1920 года
Неудивительно, что это противоречие никогда не было рассмотрено напрямую. Вместо этого А.Б. Генс, официальный представитель политики легализации, использовал результаты этих исследований, чтобы утверждать, что женщины не искали аборт при первых беременностях, и поэтому легализация не была ответственна за рост числа абортов.
Оценивая последствия новой политики после того, как она была введена менее чем на четыре года, комиссар здравоохранения Николай Семашко, признал, что общее количество абортов резко возросло с 1920 года, но он настаивал, что увеличение числа госпитальных абортов происходило за счет вывода из тени подпольных прерываний беременности.
Однако, судя по количеству женщин, которые поступали в больницы или клиники с кровотечениями после неудачных операций, было очевидно, что подпольные аборты проводились. Но как их посчитать? Советские врачи утверждали, что было почти невозможно даже для специалиста отличить неполный аборт, который начался спонтанно, от неполного аборта, который был вызван искусственно.
В конце десятилетия доктор Магид из Киева применил анамнестический метод венского доктора Пеллера к исследованию уровней абортов в Москве и Ленинграде. В своей первой публикации, использующей анамнестический метод, Магид сообщил, что его данные для женщин Москвы и Ленинграда в возрастной группе 15-44 лет примерно соответствовали данным Пеллера для венских женщин в тот же период. Аборты в Вене были строго запрещены за исключением ряда медицинских обстоятельств. Заключение Магида имело полемический оттенок. Он подчеркнул сходство данных по абортам в обществе, где аборт был легален, и в обществе, где аборт был наказуем по закону. Импликация была ясна: легализация аборта не уменьшила общее количество абортов.
А в статье 1931 года, опубликованной совместно с киевским коллегой доктором Венковским, Магид сравнил данные, полученные с помощью анамнезного метода, с доступной статистикой по абортам в России. В конце статьи авторы допустили, что количество нелегальных абортов в России увеличилось в связи с легализацией, а не уменьшилось.
В конце 1931 года ряд медицинских журналов начал публиковать статьи о растущем числе абортов в сельской местности. Например, автор исследования 1931 года о регулировании рождаемости в Коломенском районе утверждал, что, хотя количество прерываний беременности в сельской местности относительно числа родов было меньше, чем в городе, рост этого явления в сельской местности был гораздо быстрее. Количество первых беременностей, которые закончились абортом, почти удвоилось в сельской местности между 1926 и 1930 годами, в то время как в городе оно оставалось практически стабильным.